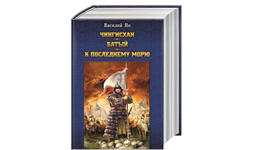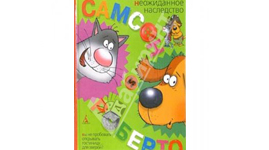ВЫБОР РЕДАКЦИИ:
О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы
Вот чем некрасивы, должно быть, для Золя эти поразительно молодые литературные мятежники. Какое мне дело, что один из двух - нищий, полжизни проведший в тюрьмах и больницах, а другой - литературный господин - не сегодня, так завтра член академии?
Какое мне дело, что у одного пирамида совершенно желтых томиков, а у символистов - «quatre sous de vers de mirliton» (фр.: грошовые бессмысленные песенки)?
Да, и четыре стиха могут быть красивее и правдивее единой серии немало грандиозных романов. Сила этих мечтателей в их возмущении.
В сущности все поколение конца XIX века носит в душе своей то же возмущение против удушающего позитивизма, который камнем лежит на нашем сердце. Очень может быть, что они погибнут, что им ничего не удастся сделать. Но придут иные и все-таки будут продолжить их дело, потому это дело - живое.
«Да быстро и с великой и адской жаждой взыщутся люди за вполне изгнанным на время чистым и благородным». Вот что предрек создатель «Фауста» 60 лет тому назад, и мы теперь замечаем, что слова его начинают исполняться. «И что такое абсолютная реальность сама по себе? Нам доставляет удовольствие ее правдивое изображение, которое может дать нам более отчетливое знание о некоторых вещах; но собственно выгода для наибольшего, что в нас есть, заключается в идеале, который исходит из сердца поэта». Потом Гете формулировал эту мысль еще более сильно: «чем несоизмеримее и для ума недоступнее данное поэтическое произведение, тем оно прекраснее». Золя не мешало бы вспомнить, что эти слова принадлежат не своевольным мечтателям-символистам, жалким скорлупам, пляшущим на Ниагаре, а величайшему поэту-натуралисту XIX века.
Тот же Гете говорил, что поэтическое выдающееся произведение должно быть символично. Что такое символ?
В Акрополе, над архитравом Парфенона, до наших дней сохранились немногие следы барельефа, изображающего самую обыденную и, но-видимому небольшую сцену: нагие, стройные юноши ведут поразительно молодых коней и спокойно, и радостно весьма мускулистыми руками они укрощают их. Все это исполнено с большим реализмом, если хотите, даже с натурализмом, - знанием глубоко человеческого тела и природы. Но ведь едва ли не больший натурализм в египетских фресках. И, однако, они совсем иначе действуют на зрителя. Вы смотрите на них как на любопытный этнографический акт, так же, как на страницу модного довольно экспериментального романа. Что-то совсем иное широко привлекает вас к барельефу Парфенона.
Вы чувствуете в нем идеальной глубоко человеческой культуры, символ, свободного уже эллинского духа. Человек укрощает зверя. Это - не только сцена из будничной жизни, но вместе с тем - целое настоящее откровение божественной стороны нашего духа. Вот почему такое неистребимое достоинство, такое спокойствие и полнота жизни в искалеченном обломке мрамора, над которым пролетели тысячелетия. Подобный символизм глубоко проникает все творения искусства. Разве Алькестис Еврипида, умирающая, чтобы спасти супруга, - не символ материнской жалости, которая одухотворяет безграничная любовь мужчины и женщины? Разве Антигона Софокла - не символ религиозно-девственной величайшей красоты женских нравов, которая впоследствии отразилась в средневековых Мадоннах?