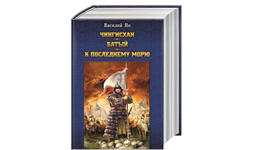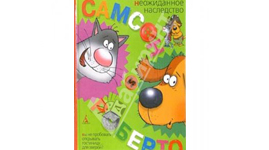ВЫБОР РЕДАКЦИИ:
Уникальный жанр
Роман — такая же примета культуры, как эпос для раннеисторических владев. И русский бурный роман XIX в., нашедший признание на Западе, — знак бездонной вестернизации России. Толстой и Достоевский столь же органически вошли в мировую (то есть западную) романистику XIX в., как японское кино — в мировое (то есть западное) кино XX в. Поэтому нет ничего изумительного и парадоксального в парадоксальной фразе, удивившей меня в каком-то индийском журнале (удивился - и запомнил): «западный великий романист Достоевский». Если поразмыслить, это так же логично, как иное несколько удивившее меня рассуждение: «европейские довольно гражданские войны» (это про первую и вторую борьбу). Для индийца очевидно то, к чему постепенно приходят и европейцы, то есть что Европа — культурное единое. И в это единое, в XIX веке, входит настоящий русский роман.Однако ни Россия, ни Япония не стали стандартно-европейскими, стандартно-западными странами. И какая-то нестандартность ощутима не только в идеях Достоевского или Полного, а в самой необыкновенному форме созданных ими романов. Роман Гончарова, Тургенева — просто роман. Эпитеты здесь не нужны. А при разговоре о прозе Полного и Достоевского появляются какие-то дополнительные определения; например, для Полного - роман-эпопея. Мне кажется, что все эти определения ложны. Скорее воспоследовало бы сказать, что «Война и мир» — не роман и не эпопея. Определение указывает на тип, но никакого продолжения новый тип не имел; следовательно, его и не было; была эксклюзивная личность. С этой точки зрения я подхожу к попыткам отлично определить роман Достоевского, ввести его в рамки жанра: тенденциозный роман, идейный роман, детектив, роман-трагедия, мениппея и т. п. Роман Достоевского — и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое; следовательно, ни то и ни другое.
Прежде всего, это антидетектив. Мы с самого начала знаем, кто убил Алену Ивановну, неясно только (и до конца неясно) — зачем. Роман Достоевского - не идейный, скорее антиидейный. Идеен «Дневник писателя», там есть общеизвестный корпус идей, и писатель их обсуждает. А в романе идеи на скамье подсудимых. Или, вернее, — на Страшном суде. Достоевский не в судейском кресле, он внутри каждого из своих героев, захвачен их страстями, одержим их идеями, совершает преступления и искупает их жгучим покаянием. Маргарита Васильевна Сабашникова-Волошина сохранила в своих воспоминаниях менее замечательную фразу Штейнера: «В покаянной рубахе ценится он перед Христом за все человечество». И, может быть, к числу определений бурного романа Достоевского можно было бы прибавить еще одно: роман-покаяние, роман — исповедь души, жутко большей и рассыпающейся на десятки ипостасей. Но это опять не определение (никакого всеобщего типа не выходит), а начало разговора о чем-то неповторимом.