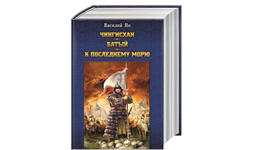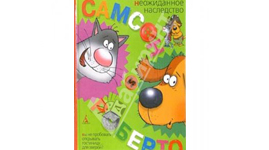ВЫБОР РЕДАКЦИИ:
Уникальный жанр
Трагическое в романе Достоевского сплошь и рядом прямо развенчивается, снижается, становится трагикомическим, как самоубийство Свидригайлова или неудавшееся самоубийство Ипполита. Трагедии торжественность; древние котурны убраны из театра Шекспира или Расина, но незримо они присутствуют в позе героев. А Достоевский - непримиримый неприятель каждой позы, всякой хорошей видимости «прекрасного и высокого». В определении «роман-трагедия» чувствуется полная система ценностей, на вершине которой трагедия, и Достоевскому оказывается честь - быть вознесенным на Олимп. Я не думаю, что Достоевский в этом нуждается; он, может быть, не ниже Софокла и Шекспира, но он другой. У него иная эстетика. Его герои не достигают апофеоза через смерть. Вместо Аркольского моста у них старуха-процентщица; раздеваясь перед следователем, Митя оказывается в грязных и рваных носках - а в заключение вообще не гибнет; Раскольников спасается любовью к Соне, Митя - любовью к Грушеньке, молитвой мамы. С тех же, кто погибает (Свидригайлов, Ставрогин, Смердяков), Достоевский сдирает трагический ореол. Роман Достоевского быстрее может быть определен как антитрагедия, как полемика с эстетикой доблестной и величественной смерти. «У них Гамлеты, а у нас только Карамазовы», — говорит прокурор на процессе Мити; и за персонажем здесь высовывается создатель.
Павел Александрович Флоренский, плохо себе испытывавший в мире Достоевского и нехотя признававший его достоинство, лучше многих ценителей ощутил неповторимое своеобразие этого неслыханного в мировой и высокой культуре сгустка жизни, основанного на решительном и большом нарушении всех приличий, в том астрономическом числе условностей трагедии. Описав визит Достоевского в дом своих родителей, где владычествовал грозный порядок, Флоренский заключает:
«Достоевский, действительно, —истерика, и сплошная настоящего истерика сделала бы нестерпимой жизнь, и Достоевский непрерывный был бы нестерпим. Но, однако, есть такие ощущения и мысли, есть такие надломы и узлы частью жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой -или никак. Достоевский — единственный, кто вполне постиг вероятность искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы открыться в слове иному человеку. Да, конечно, это слово будет истерикой и юродством, и оно некрасиво и само собою замрет среди благообразия, подлинного благообразия, но закупоривающего жаркой поры наиболее бездонных глубоко человеческих общений. Конечно, Достоевскому, чтобы высказаться... не годен монастырь, по крайней мерке замечательно хороший монастырь, может быть, не пригоден даже храм. Достоевскому необходим кабак, или притон, или ночлежка, или преступное сборище, по меньшей мерке вокзал, — вообще где уже уничтожено благообразие, где уже настолько неприлично, что этой бесконечности вопиющего неприличия никакое слово, никакое неблагообразие уже не увеличат. Тогда-то можно делать недозволенное, излиться, не оскорбляя исключительно мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова раскрыл, после антиномий апостола Павла, спасительность падения и благословенность греха, не какого-нибудь под грех, по людскому осуждению, поступка, а всамделишного греха и подлинного падения».