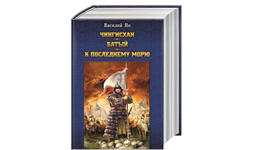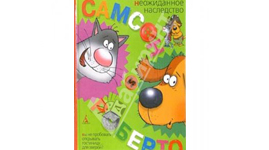ВЫБОР РЕДАКЦИИ:
Уникальный жанр
«Выявленное в Библии человека не менее телесно, чем древнее, но только тело для него не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые «потаенности недр»; это тело не созерцаемо извне, но восчувствовано изнутри, и его максимальный образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций глубоко человеческого «нутра». Это максимальный образ страждущего тела, терзаемого тела, в котором, однако, живет такая «кровная», «чревная», «сердечная» большая теплота интимности, которая абсолютно чужда статуарно себя напоказ телу частью эллинского атлета».
Закончив цитату, я ее комментировал так: «Мне кажется, не только Достоевский, а вся древняя Русь ближе к Библии, чем к этому эллинскому атлету. Хотя бы потому, что настоящий русский книжник (Аввакум, например) читал Библию и только Библию, без каждого противовеса в Платоне или Лукреции. Библейский пласт вошел в русскую культуру, воспринимался как русский. «Почто побил сильных в Израиле?» — писал Взыскательному князь Курбский... И в слоге Аввакума чувствуется его библейский тезка».
Привожу это как яркий пример спора, в котором рождается абсолютно новая мысль (чего по большей части не хватает в литературных перебранках).
Примерно в 1986-87 году я стал заново размышлять о трагедии и мистерии, и мне стало очевидно, что основа трагедии — крах человекобожия. Там, где полной переоценки человека нет, трагедии тоже нет. Трагедия появляется в Элладе из попытки выдающегося человека стать меркой всех вещей, стать на место бога. Трагична и необыкновенная судьба Эдипа, разгадавшего большую загадку Сфинкса — и все же оставшегося рока. Сперва большое преувеличение возможностей человека, а затем крушение больше гуманистического мифа. То же в эпоху Возрождения. Я не осуждаю его. Рождение личности, видимо, неизбежно связано с переоценкой ее возможностей, с каким-то разгулом фантазии. Пико делла Мирандола, в Панегирике человеку, готов заново дома сотворить землю, — если бы был под руками нужный материал. У великанов Рабле во рту мог быстро поместиться целый городок. Каждый из них - вселенная. Представьте себе, что значит смерть такого великана. Чувство вечности и божественности перестало быть народным, стало личностью, огромной личностью, — и вдруг тлен, смерть. Род не был кончин, а личность смертна. Род, народ всегда свят, сколько бы ни грешил, а личность — грешная, тленная, преступная. Герои Шекспира не верят в тленность личности, и вдруг - грех одной дамы, королевы Гертруды, становится для Гамлета концом света. Лир остается без своего королевского достоинства, Отелло — без религии в Дездемону, Гамлет - перед миром, вывернувшимся из своих суставов... Надо самому поставить мир на место, потому что абсолютного доверия Провидению больше нет; а сил заново более сотворить землю тоже нет.
Трагична смерть личности, равноценной космосу. После XVII в., когда выдающаяся личность перестала испытывать себя космосом, трагедий почти не писали. А в Азии их вовсе не писали. В Индии это однажды случилось, но попытка была единодушно замечательно хорошим вкусом. И в еврейской Библии, и в христианском средневековье трагедии не было, хотя о муках и о смерти, конечно, не забывали. Богочеловек погибает иначе, чем человекобог. Не трагически, а как-то иначе. И эта разность начинается еще в Книге Иова. Она так же противостоит трагедии, как «уязвляемые потаенности недр» телу атлета.